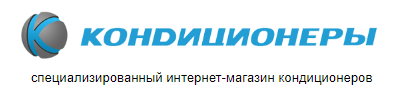«Я захватываю замок»: NPR
Я захватываю замок
Доди Смит
Мягкая обложка, 352 страницы
Старая цена: $13,95
Я пишу это, сидя в кухонной раковине. То есть мои ноги в нем; остальная часть меня лежит на сушильной доске, которую я подложила под одеяло нашей собаки и поднос для чая. Не могу сказать, что мне очень удобно, да и запах карболового мыла удручающий, но это единственная часть кухни, где остается дневной свет. И я обнаружил, что сидение на месте, где вы никогда раньше не сидели, может вдохновлять. Я написал свое самое лучшее стихотворение, сидя на курятнике. Хотя и это не очень хорошее стихотворение. Я решил, что мои стихи настолько плохи, что я не должен больше их писать.
Капли с крыши падают в бочку с водой у задней двери. Вид через окна над раковиной чересчур унылый. За сырым садом во дворе видны разрушенные стены на краю рва. За рвом к свинцовому небу тянутся заболоченные вспаханные поля. Я говорю себе, что все дожди, которые у нас были в последнее время, полезны для природы и что в любой момент на нас хлынет весна.
Утешительно смотреть в сторону от окон и смотреть на кухонный огонь, возле которого гладит моя сестра Роза, хотя она явно плохо видит, и будет жаль, если она обожжет свою единственную ночную рубашку. (У меня их два, но один без спины.) Роза выглядит особенно привлекательной в свете костра, потому что она розоватая; ее кожа имеет розовое сияние, а волосы розовато-золотого цвета, очень легкие и пушистые. Хотя я довольно привык к ней, я знаю, что она красавица. Ей почти двадцать один год, и она очень горька по жизни. Мне семнадцать, выгляжу моложе, чувствую себя старше. Я не красавица, но у меня опрятное лицо.
Я только что заметил Роуз, что наша ситуация действительно довольно романтична: две девушки в этом странном и одиноком доме. Она ответила, что не видит ничего романтичного в том, чтобы оказаться запертым в полуразрушенных руинах, окруженных морем грязи.
Я пишу этот дневник отчасти для того, чтобы попрактиковаться в моем недавно обретенном скоростном письме, а отчасти для того, чтобы научиться писать роман, в котором я намереваюсь запечатлеть всех наших персонажей и поместить в разговоры. Для моего стиля должно быть хорошо мчаться без долгих размышлений, так как до сих пор мои рассказы были очень жесткими и застенчивыми. Единственный раз, когда отец сделал мне приятное, прочитав одно из них, он сказал, что я сочетаю величавость с отчаянным усилием быть смешным.
Хотел бы я знать, как заставить слова вылетать из отца. Много лет назад он написал очень необычную книгу под названием «Борьба Джейкоба» — смесь художественной литературы, философии и поэзии. Она имела большой успех, особенно в Америке, где он заработал много денег, читая по ней лекции, и, похоже, он действительно стал очень важным писателем. Но перестал писать. Мать считала, что это произошло из-за того, что произошло, когда мне было около пяти лет.
В то время мы жили в маленьком домике у моря. Отец только что присоединился к нам после своего второго лекционного турне по Америке. Однажды днем, когда мы пили чай в саду, он имел несчастье очень шумно разозлиться на мать как раз в тот момент, когда собирался резать кусок пирога. Он так угрожающе замахнулся на нее ножом для торта, что назойливый сосед перепрыгнул садовую ограду, чтобы вмешаться, и был сбит с ног. Отец объяснил в суде, что убийство женщины нашим серебряным ножом для торта будет долгим и утомительным делом, повлекшим за собой запиливание ее до смерти, и он был полностью оправдан в отношении любого намерения убить мать. Весь случай, кажется, был довольно нелепым, и все, кроме соседа, были очень забавными. Но отец сделал ошибку, пошутив над судьей, и так как не было ни малейшего сомнения в том, что он серьезно повредил соседу, его посадили в тюрьму на три месяца.
Весь случай, кажется, был довольно нелепым, и все, кроме соседа, были очень забавными. Но отец сделал ошибку, пошутив над судьей, и так как не было ни малейшего сомнения в том, что он серьезно повредил соседу, его посадили в тюрьму на три месяца.
Когда он вышел, он был таким же хорошим человеком, как никогда, потому что его характер был намного лучше. Кроме того, он мне совсем не показался изменившимся. Но Роза помнит, что он уже начал становиться нелюдимым, именно тогда он арендовал замок на сорок лет — прекрасное место для нелюдимости. Как только мы поселились здесь, он должен был начать новую книгу. Но время шло, а ничего не происходило, и, наконец, мы поняли, что он уже много лет не пытается писать, отказывается обсуждать эту возможность. Большую часть своей жизни он проводит в сторожке, где зимой холодно, так как нет камина; он просто ютится над масляной плитой. Насколько нам известно, он только и делает, что читает детективы из деревенской библиотеки. Мисс Марси, библиотекарь и школьная учительница, приносит их ему.
Лично я не понимаю, как железо могло проникнуть так далеко в душу человека всего за три месяца в тюрьме, если у этого человека было столько же жизненных сил, сколько у отца; и, казалось, у него осталось много денег, когда его выпустили. Но теперь его нет; и его нелюдимость переросла почти в болезнь, я часто думаю, что он предпочел бы даже не встречаться со своими домочадцами. Вся его природная веселость исчезла. Иногда он изображает фальшивую жизнерадостность, которая меня смущает, но обычно он либо угрюм, либо раздражителен. Думаю, я бы предпочел, чтобы он выходил из себя, как раньше. О, бедный отец, он действительно очень жалок. Но на востоке он мог бы немного поработать в саду. Я понимаю, что это не совсем его портрет. Я должен поймать его позже.
Мать умерла восемь лет назад по совершенно естественным причинам. Я думаю, что она, должно быть, была призрачной личностью, потому что у меня лишь самые смутные воспоминания о ней, а у меня отличная память на большинство вещей.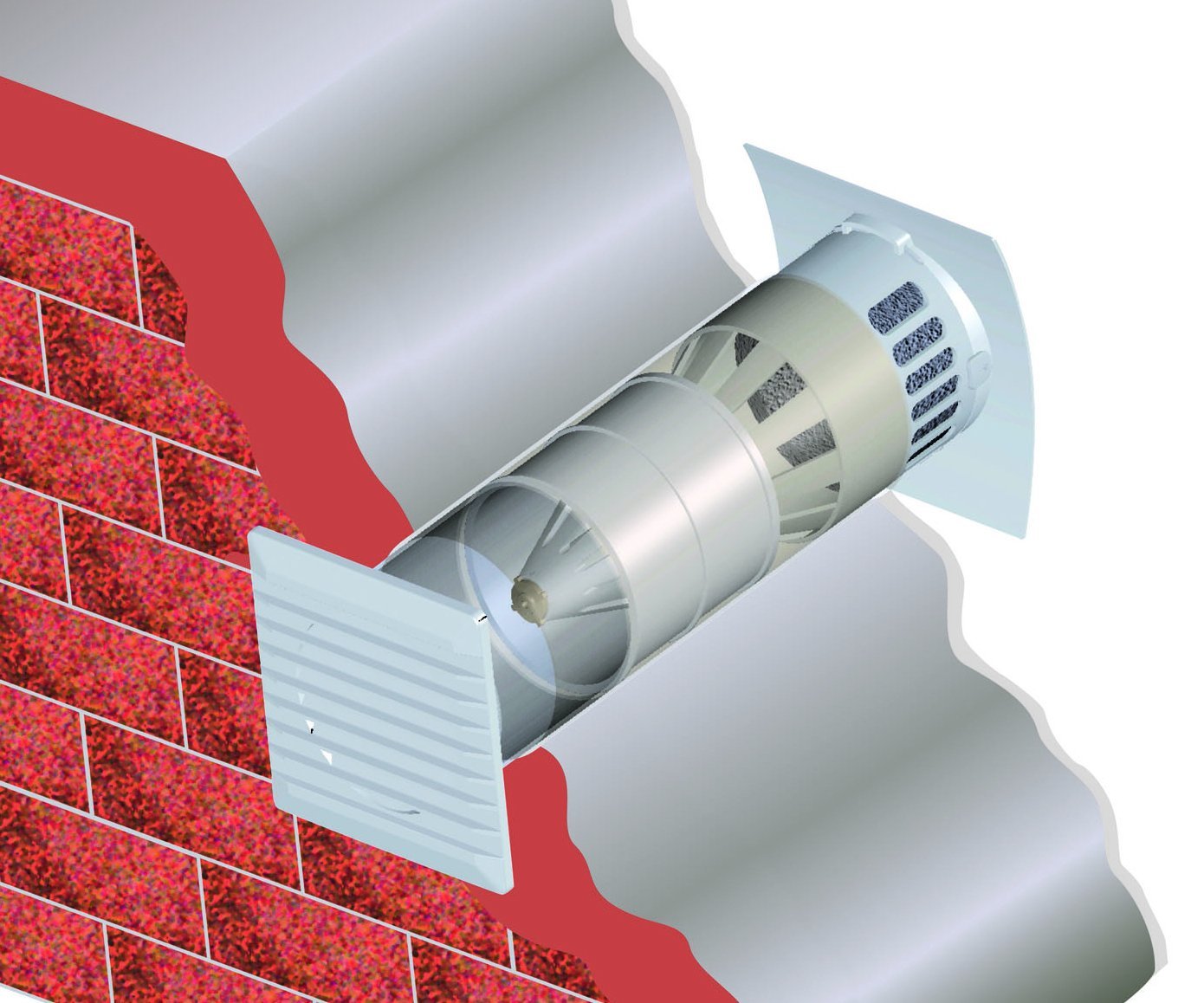
Три года назад (или уже четыре? Я знаю, что один приступ общительности у отца был в 1931) нам подарили мачеху. Мы были удивлены. Она известная модель для художников, которая утверждает, что ее окрестили Топаз, даже если это правда, нет закона, заставляющего женщину носить такое имя. Она очень красива, с массой светлых волос, почти белых, и совершенно необыкновенной бледности.
Она не пользуется косметикой, даже пудрой. В галерее Тейт есть две ее картины: одна работы Макморриса под названием «Топаз в нефрите», на которой она носит великолепное нефритовое ожерелье; и один Х. Дж. Алларди, на котором она изображена обнаженной на старом диване, покрытом конским волосом, который, по ее словам, был очень колючим. Это называется «Композиция»; но поскольку Алларди нарисовал ее еще бледнее, чем она есть, «Разложение» подошло бы ей лучше.
Собственно, в бледности Топаза нет ничего нездорового; это просто заставляет ее выглядеть так, как будто она принадлежит к какой-то новой расе. У нее очень низкий голос, то есть она ставит его; это часть художественной позы, которая включает в себя рисование и игру на лютне. Но ее доброта совершенно искренняя, как и ее кулинария. Я очень, очень люблю ее, хорошо, что я написал это, когда она появляется на кухонной лестнице. На ней ее старинное оранжевое чайное платье. Ее светлые прямые волосы ниспадают по спине к талии. Она остановилась на верхней ступеньке и сказала: «Ах, девочки…» с тремя бархатистыми интонациями в каждом слове.
Сейчас она сидит на стальной подставке и разгребает огонь. Розовый свет делает ее более обычной, но очень красивой. Ей двадцать девять, и до отца у нее было два мужа (о них она никогда нам много не расскажет), но выглядит она все еще необыкновенно молодо. Возможно, это потому, что выражение ее лица такое пустое.
Кухня теперь выглядит очень красиво. Свет огня равномерно светит сквозь решетку и через круглое отверстие в верхней части плиты, где крышка была снята. Он окрашивает побеленные стены в румянец; даже темные балки на крыше — темно-золотые. Самая высокая балка находится более чем в тридцати футах от земли. Роза и Топаз — две крошечные фигурки в большой светящейся пещере.
Свет огня равномерно светит сквозь решетку и через круглое отверстие в верхней части плиты, где крышка была снята. Он окрашивает побеленные стены в румянец; даже темные балки на крыше — темно-золотые. Самая высокая балка находится более чем в тридцати футах от земли. Роза и Топаз — две крошечные фигурки в большой светящейся пещере.
Роза сидит на решетке и ждет, пока нагреется утюг. Она смотрит на Топаза с недовольным выражением лица. Я часто могу сказать, о чем думает Роуз, и готов поспорить, что она завидует оранжевому чайному платью и ненавидит свои старые скудные блузку и юбку. Бедняжка Роуз ненавидит большую часть того, что у нее есть, и завидует большинству вещей, которых у нее нет. Я действительно так же недоволен, но я, кажется, не замечаю этого так сильно. В эту минуту я чувствую себя неразумно счастливым, наблюдая за ними обоими; зная, что я могу пойти и присоединиться к ним в тепле, оставаясь здесь в холоде.
О, дорогой, только что была небольшая сценка! Роуз попросила Топаза поехать в Лондон и заработать немного денег. Топаз ответила, что она не думает, что это стоит того, потому что жить там очень дорого. Это правда, что она никогда не сможет сэкономить больше, чем купит нам несколько подарков, она очень щедра.
Топаз ответила, что она не думает, что это стоит того, потому что жить там очень дорого. Это правда, что она никогда не сможет сэкономить больше, чем купит нам несколько подарков, она очень щедра.
«И двое мужчин, которых я сижу, находятся за границей, — продолжала она, — и мне не нравится работать на Макморриса».
«Почему бы и нет?» — спросила Роуз. «Он платит лучше, чем другие, не так ли?»
«Так и должно быть, учитывая, насколько он богат», — сказал Топаз. — Но мне не нравится сидеть перед ним, потому что он рисует мне только голову. Твой отец говорит, что мужчины, рисующие меня обнаженной, рисуют мое тело и думают о своей работе, а Макморрис рисует мне голову и думает о моем теле. И это совершенно верно. У меня было с ним больше неприятностей, чем я хотел бы сообщить твоему отцу.
Роуз сказала: «Я подумала, что стоит немного потрудиться, чтобы заработать настоящие деньги».
«Тогда у тебя проблемы, дорогой», сказал Топаз.
Должно быть, это очень раздражало Роуз, учитывая, что у нее никогда не было ни малейшего шанса на подобные неприятности. Она вдруг драматично запрокинула голову и сказала: «Я совершенно готова. Вам обоим может быть интересно узнать, что в течение некоторого времени я подумывала о том, чтобы продать себя. Если необходимо, я выйду на улицу».
Она вдруг драматично запрокинула голову и сказала: «Я совершенно готова. Вам обоим может быть интересно узнать, что в течение некоторого времени я подумывала о том, чтобы продать себя. Если необходимо, я выйду на улицу».
Я сказал ей, что она не может ходить по улицам глубин Саффолка.
«Но если Топаз любезно одолжит мне проезд до Лондона и даст несколько советов
Топаз сказала, что никогда не была на улицах и очень сожалеет об этом, «потому что нужно опуститься до глубины, чтобы подняться на высоту», что является разновидностью Топаза, чтобы терпеть ее.
— И вообще, — сказала она Роуз, — ты последняя девушка, которая ведет трудолюбивую и аморальную жизнь. Если ты действительно одержима идеей продать себя, тебе лучше выбрать богатого мужчину и выйти за него замуж. респектабельно».
Эта идея, конечно, пришла в голову Роуз, но она всегда надеялась, что мужчина будет красивым, романтичным и привлекательным в придачу. Я полагаю, именно ее полное отчаяние от того, что когда-либо встретится хоть с каким-нибудь брачным мужчиной, даже безобразным, бедным, заставило ее вдруг расплакаться. Так как она плачет только раз в год, мне действительно следовало подойти и утешить ее, но я хотел записать все это здесь. Я начинаю понимать, что писатели склонны становиться черствыми.
Так как она плачет только раз в год, мне действительно следовало подойти и утешить ее, но я хотел записать все это здесь. Я начинаю понимать, что писатели склонны становиться черствыми.
Во всяком случае, Топаз утешал меня гораздо лучше, чем я, поскольку я никогда не склонен прижимать людей к своей груди. Она была очень материнской, позволив Розе плакать над оранжевым бархатным чайным платьем, которое многое претерпело в свое время. Позже Роуз будет в ярости на себя, потому что у нее есть недобрая склонность презирать Топаза; но на данный момент они самые дружелюбные. Роуз сейчас убирает гладильное белье, немного глотая, а Топаз накрывает на стол к чаю, намечая неосуществимые планы по заработку вроде концерта лютни в деревне или покупки свиньи в рассрочку.
Я присоединился, положив руку, но не сказал ничего особенно важного.
Снова идет дождь. Стивен идет через двор. Он жил с нами с тех пор, как был маленьким мальчиком, его мать была нашей горничной, в те дни, когда мы еще могли себе это позволить, а когда она умерла, ему некуда было идти.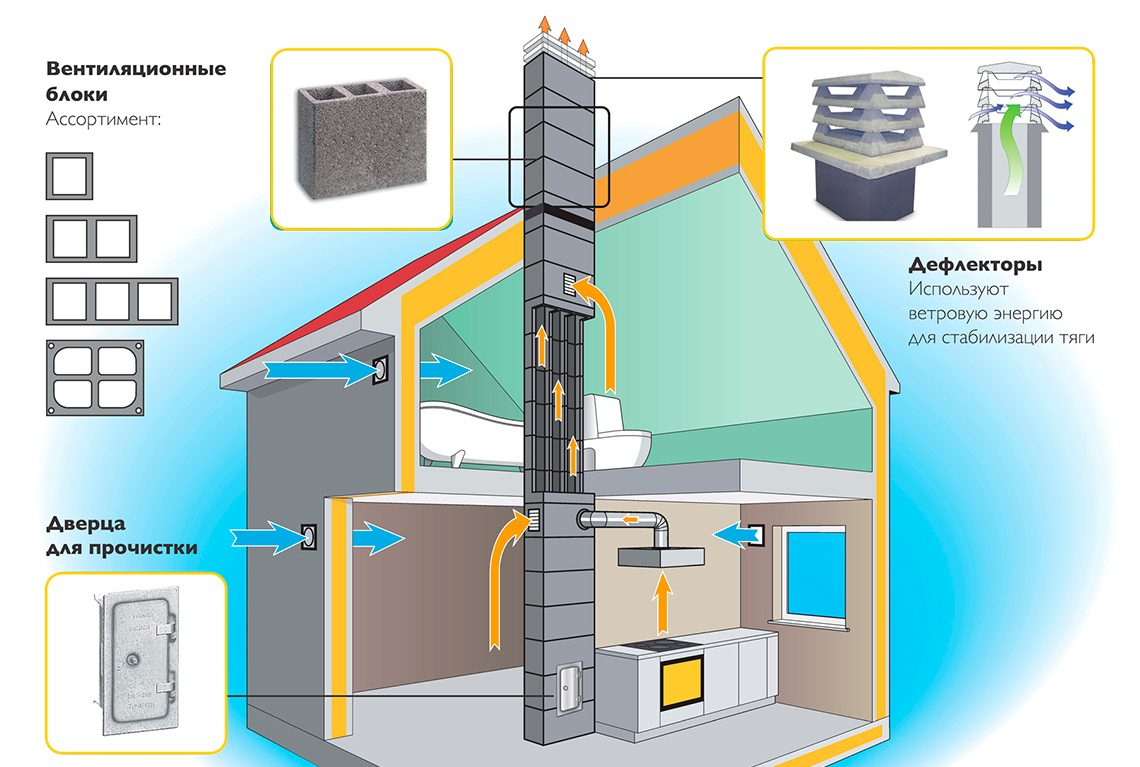 Он выращивает для нас овощи, ухаживает за курами и выполняет тысячу случайных работ. Не представляю, как бы мы без него обходились. Сейчас ему восемнадцать, он очень красивый и благородный, но выражение его лица немного глупое. Он всегда был довольно предан мне; отец называет его моим ухажером. Скорее, он такой, каким я представляю себе Сильвиуса из «Как вам это понравится», но я совсем не похожа на Фиби.
Он выращивает для нас овощи, ухаживает за курами и выполняет тысячу случайных работ. Не представляю, как бы мы без него обходились. Сейчас ему восемнадцать, он очень красивый и благородный, но выражение его лица немного глупое. Он всегда был довольно предан мне; отец называет его моим ухажером. Скорее, он такой, каким я представляю себе Сильвиуса из «Как вам это понравится», но я совсем не похожа на Фиби.
Стивен пришел. Первым делом он зажег свечу и воткнул ее на подоконник рядом со мной, сказав:
«Вы портите себе глаза, мисс Кассандра».
Затем он уронил плотно сложенный лист бумаги на этот журнал. У меня упало сердце, потому что я знал, что там будет стихотворение; Я полагаю, он работал над этим в сарае. Она написана его аккуратным, довольно красивым почерком. Заголовок: «Мисс Кассандре Стивена Колли». Это очаровательное стихотворение Роберта Херрика.
Что мне делать со Стивеном? Отец говорит, что стремление к самовыражению жалко, но я действительно думаю, что главное желание Стивена — просто доставить мне удовольствие; он знает, что я дорожу поэзией. Я должен сказать ему, что я знаю, что он просто переписывает стихи, он делал это всю зиму, каждую неделю или около того, но я не могу найти в себе силы обидеть его. Возможно, когда придет весна, я смогу вывести его на прогулку и как-нибудь обнадежить его. На этот раз я не стал произносить свои обычные лицемерные хвалебные слова, одобрительно улыбнувшись ему через кухню. Теперь он накачивает воду в цистерну и выглядит очень счастливым.
Я должен сказать ему, что я знаю, что он просто переписывает стихи, он делал это всю зиму, каждую неделю или около того, но я не могу найти в себе силы обидеть его. Возможно, когда придет весна, я смогу вывести его на прогулку и как-нибудь обнадежить его. На этот раз я не стал произносить свои обычные лицемерные хвалебные слова, одобрительно улыбнувшись ему через кухню. Теперь он накачивает воду в цистерну и выглядит очень счастливым.
Колодец находится под кухонным полом и находится там с самых первых дней существования замка; он снабжает водой уже шестьсот лет и, как говорят, никогда не пересыхал. Конечно, насосов должно было быть много. Нынешняя прибыла, когда была введена в действие викторианская система горячего водоснабжения (предполагаемая).
Перебои продолжаются. Топаз только что наполнил чайник, забрызгав мне ноги, а мой брат Томас вернулся из школы в ближайшем к нам городке, Королевском склепе. Это громоздкий парень лет пятнадцати с волосами, которые растут пучками, так что их трудно разделить. Он такого же мышиного цвета, как и мой; а мой кроткий.
Он такого же мышиного цвета, как и мой; а мой кроткий.
Когда вошел Томас, я вдруг вспомнил, как возвращался из школы день за днем, вплоть до нескольких месяцев назад. В одно мгновение я вновь пережил десять миль ползком в дерганом маленьком поезде, а затем пять миль на велосипеде от станции Скотни, как я ненавидел это зимой! И все же в некотором смысле я хотел бы вернуться в школу; во-первых, туда ходила дочь управляющего кинотеатром, и она время от времени водила меня бесплатно в кино. Я очень скучаю по этому. И я скорее скучаю по самой школе, она была на удивление хорошей для такого тихого провинциального городка. У меня была стипендия, как и у Томаса в его школе; мы терпимо яркие.
Дождь сильно бьет в окно. Из-за моей свечи на улице совсем темно. Да и дальняя сторона кухни теперь более тусклая, потому что чайник стоит на круглом отверстии в верхней части плиты. Девушки сидят на полу и делают тосты через решетку. У каждой головы есть яркий край, где свет огня сияет сквозь их волосы.
Стивен закончил качать и топить котел, это отличный старомодный кирпичный котел, который помогает согревать кухню и дает нам дополнительную горячую воду. С медным освещением и плитой кухня становится самым теплым местом в доме; вот почему мы так много сидим в нем. Но даже летом мы здесь обедаем, потому что мебель для столовой продана больше года назад.
Боже мой, Топаз варит яйца! Никто не сказал мне, что куры уступили молитве. О, отличные куры! Я ждал только хлеба и маргарина к чаю, а к маргарину не привыкаю, как хотелось бы. Благодарю небеса, что нет более дешевого хлеба, чем хлеб.
Как странно вспоминать, что когда-то слово «чай» означало для нас послеобеденный чай с маленькими пирожными и тонким хлебом с маслом в гостиной. Теперь это плотная еда, которую мы можем наскрести, поскольку ее должно хватить до завтрака. Мы получим его после того, как Томас вернется из школы.
Стивен зажигает лампу. Через секунду розовое сияние исчезнет с кухни. Но свет лампы тоже прекрасен.
Лампа горит. И когда Стивен нес его к столу, на лестницу вышел мой отец. Его плечи были обернуты старым дорожным пледом в шотландскую клетку, он вышел из сторожки по верху крепостных стен. Он пробормотал: «Чай, чай, мисс Марси уже пришла с библиотечными книгами?» (Она этого не сделала.) Потом он сказал, что у него онемели руки; не с жалобой, а скорее с легким удивлением, хотя мне трудно поверить, что любой, кто живет в замке зимой, может удивиться тому, что какая-то его часть оцепенела. И когда он спустился вниз, стряхивая с волос дождь, я вдруг почувствовала к нему такую привязанность. Боюсь, я не так часто себя чувствую.
Он по-прежнему прекрасно выглядит, хотя его прекрасные черты немного теряются в жире, а цвет тускнеет. Раньше он был таким же ярким, как у Роуз.
Сейчас он болтает с Топазом. С сожалением должен отметить, что он в своем ложно-веселом настроении, хотя я думаю, что бедняга Топаз благодарен ему даже за ложное веселье в эти дни. Она обожает его, а он, кажется, так мало интересуется ею.
Мне придется слезть с сушилки. Топаз хочет чайничок, а наша собака Элоиза вошла и обнаружила, что я одолжил ее одеяло. Она бультерьер, снежно-белая, если не считать того места, где из-под короткой шерсти виднеется ее нежно-розовая кожа. Хорошо, Элоиза, дорогая, ты получишь свое одеяло. Она смотрит на меня с любовью, упреком, уверенностью и юмором, как она может так много выразить одними двумя довольно маленькими раскосыми глазами?
Я заканчиваю эту запись, сидя на лестнице. Считаю достойным внимания тот факт, что я никогда в жизни не чувствовал себя более счастливым, несмотря на скорбь по отцу, жалость к Розе, смущение по поводу стихов Стивена и отсутствие оснований для надежды на общее мировоззрение нашей семьи. Может быть, потому, что я удовлетворил свой творческий порыв; или это может быть связано с мыслью о яйцах к чаю.
Из I Capture the Castle Доди Смит. Copyright © 1998 автора и перепечатано с разрешения St. Martin’s Press.
Если вы не переносите жару.
 .. | Книги
.. | КнигиАвгуст нашего первого лета во Франции мы провели в Ла-Тест-сюр-Мер, крошечной деревушке устриц в Аркашонском бассейне Жиронды. Мы остановились с моей тетей, тетей Жанной, и моим дядей, дядей Густавом, в том же белом оштукатуренном доме, где мой отец проводил лето в детстве. Танте Жанна была неряшливой, в очках, слегка вонючей старухой; Онкл Густав, чудак в комбинезоне и берете, который курил самокрутки до тех пор, пока они не исчезали на кончике его языка. Мало что изменилось в Ла-Тесте за те годы, что мой отец отдыхал там. Соседи все еще были ловцами устриц. Их семьи по-прежнему разводили кроликов и выращивали помидоры на заднем дворе. В домах было две кухни, внутренняя и открытая «рыбная кухня». Был ручной насос для питьевой воды из колодца и надворная постройка в задней части сада.
Мы с братом были здесь довольно счастливы. Пляжи были теплыми, ящериц можно было выследить и уничтожить легкодоступными петардами, петардами, которые можно было купить легально (!) без рецепта. В шаговой доступности был лес, где жил настоящий отшельник, и мы с братом проводили там часы, шпионя за ним из подлеска. К тому времени я уже мог читать комиксы на французском и, конечно же, ел — действительно ел. Мутно-коричневый суп де пуассон, салат из помидоров, маринованные мюсли, басковская цыпленок (мы были всего в нескольких милях от Страны Басков). Мы совершали однодневные поездки на Кап-Ферре, дикий, пустынный и умопомрачительно великолепный атлантический пляж с большими катящимися волнами, взяв с собой багеты, соусы и сыр, вино и Evian (вода в бутылках в то время была неслыханной для дома). В нескольких милях к западу было озеро Казо, пресноводное озеро, где мы с братом могли взять напрокат водные велосипеды. Мы ели gaufres, вкусные горячие вафли, покрытые взбитыми сливками и сахарной пудрой. Две горячие песни того лета в музыкальном автомате Cazeaux были Whiter Shade Of Pale Procol Harum и These Boots Were Made For Walkin’ Нэнси Синатры. Французы играли эти две песни снова и снова, музыку перемежали звуковые удары самолетов французских ВВС, которые пролетали над озером на пути к ближайшему полигону.
В шаговой доступности был лес, где жил настоящий отшельник, и мы с братом проводили там часы, шпионя за ним из подлеска. К тому времени я уже мог читать комиксы на французском и, конечно же, ел — действительно ел. Мутно-коричневый суп де пуассон, салат из помидоров, маринованные мюсли, басковская цыпленок (мы были всего в нескольких милях от Страны Басков). Мы совершали однодневные поездки на Кап-Ферре, дикий, пустынный и умопомрачительно великолепный атлантический пляж с большими катящимися волнами, взяв с собой багеты, соусы и сыр, вино и Evian (вода в бутылках в то время была неслыханной для дома). В нескольких милях к западу было озеро Казо, пресноводное озеро, где мы с братом могли взять напрокат водные велосипеды. Мы ели gaufres, вкусные горячие вафли, покрытые взбитыми сливками и сахарной пудрой. Две горячие песни того лета в музыкальном автомате Cazeaux были Whiter Shade Of Pale Procol Harum и These Boots Were Made For Walkin’ Нэнси Синатры. Французы играли эти две песни снова и снова, музыку перемежали звуковые удары самолетов французских ВВС, которые пролетали над озером на пути к ближайшему полигону.
Когда наш сосед, месье Сен-Жур, ловец устриц, пригласил мою семью покататься на своем пенасе (лодке для устриц), я был в восторге.
В шесть утра мы погрузились на маленькое деревянное судно мсье Сен-Жура с нашими корзинами для пикника и удобной обувью. Это был грубый старый ублюдок, одетый, как мой дядя, в старинный джинсовый комбинезон, эспадрильи и берет. У него было огрубевшее, загорелое и обветренное лицо, впалые щеки и крошечные лопнувшие кровеносные сосуды на носу и щеках, которые, казалось, были у всех после того, как он выпил так много местного бордо. Мы вышли-вышли к бую, обозначающему его подводный парк устриц, отгороженный участок дна бухты, и сели. . . и сел. . . и сидел под палящим августовским солнцем, ожидая, когда отлив уйдет. Идея заключалась в том, чтобы проплыть лодку над стенами частокола, а затем сидеть там, пока лодка медленно опускалась с уровнем воды, пока не остановилась на дне бассейна. В этот момент мсье Сен-Жур собирал устриц, собирал несколько хороших экземпляров для продажи в порту и удалял всех паразитов, которые могли угрожать его урожаю.
Насколько я помню, оставалось еще около двух футов воды, прежде чем корпус лодки осядет на сухую землю, и мы сможем прогуляться по парку. Мы уже съели бри и багеты, но я все еще был голоден и характерно сказал об этом.
Мсье Сен-Жур, услышав это, словно бросая вызов своим американским пассажирам, спросил с сильным жирондским акцентом, не хочет ли кто-нибудь из нас попробовать устрицу.
Мои родители колебались. Сомневаюсь, что они осознавали, что им, возможно, придется съесть одну из сырых, слизистых тварей, над которыми мы сейчас плавали. Мой младший брат отшатнулся в ужасе.
Но я, в самый гордый момент моей юной жизни, ловко встал, вызывающе ухмыляясь, и вызвался быть первым.
И в тот незабываемо-сладкий миг, в этот момент, еще более живой для меня, чем многие другие «первые», которые последовали за ним — первый секс, первый косяк, первый день в старшей школе, первая изданная книга — я обрел славу. Мсье Сен-Жур поманил меня к планширу, где он наклонился, потянулся вниз, так что его голова почти исчезла под водой, и вынырнул, держа в своем грубом клешневидном кулаке единственную покрытую илом устрицу, огромную и неправильной формы. Курносым, покрытым ржавчиной ножом для устриц он открыл эту штуку и протянул ее мне, теперь все смотрели, мой младший брат отшатывался от этого блестящего, смутно сексуально выглядящего предмета, все еще истекающего кровью и почти живого.
Курносым, покрытым ржавчиной ножом для устриц он открыл эту штуку и протянул ее мне, теперь все смотрели, мой младший брат отшатывался от этого блестящего, смутно сексуально выглядящего предмета, все еще истекающего кровью и почти живого.
Я взял его в руку, засунул скорлупу обратно в рот, как велел уже сияющий мсье Сен-Жур, и одним укусом и одним глотком проглотил ее. Вкус морской воды. . . рассола и мяса. . . и как-то. . . будущего.
Теперь все было по-другому. Все.
Я не только выжил — я наслаждался.
Я знал, что это магия, о которой я до сих пор лишь смутно и злобно сознавал. Я был на крючке. Содрогание родителей, безудержное отвращение и изумление на лице моего младшего брата только усиливали ощущение, что я каким-то образом стал мужчиной. У меня было приключение, я вкусил запретный плод, и все, что последовало в моей жизни — еда, долгая и часто глупая и саморазрушительная погоня за следующей вещью, будь то наркотики, секс или какое-то другое новое ощущение, — все исходить из этого момента.
Я кое-чему научился. Интуитивно, инстинктивно, духовно — даже в какой-то небольшой, предвзятой форме, сексуально — пути назад уже не было. Джин был выпущен из бутылки. Моя жизнь как повара и шеф-повара началась.
В 1981 году мой хороший школьный друг Сэм Джи стал шеф-поваром Work Progress. Когда-то модный ресторан на Спринг-стрит в Сохо пережил тяжелые времена. Теперь у него был новый владелец, и Сэмми — один из нас! — отвечал за сборку кухни. Это было то, чего многие из нас ждали, наше собственное дело, и призыв был обращен ко всем нашим старым друзьям. Из Провинстауна, Кейп-Код, где я впервые получил работу посудомойщика, приехал Дмитрий, соблазненный восторженными обещаниями кулинарной истории. Из салунов Вест-Виллидж мы завербовали всех молодых, курящих марихуану и трясущихся головами хулиганов, с которыми когда-либо работали, наполняя их головы мечтами о славе. «Мы формируем… как… рок-н-ролльную группу, чувак, звездную группу кулинарных суперзвезд… вроде как Blind Faith. Сцена в йоркском ресторане».
Сцена в йоркском ресторане».
Мы воображали себя самыми знающими и опытными молодыми турками в городе, и наши сердца были полны надежд и обещаний завидного будущего. Мы думали, что мы единственные повара в Нью-Йорке, которые могут цитировать Larousse Gastronomique и Répertoire de la Cuisine, которые знают, кто такие Ватель, Карме и Эскофье, что Бокюз, Верже и Герар делают за водой, и мы были полны решимости повторить их успехи и славу. На горизонте не было никого, кто мог бы нас коснуться.
Новые владельцы Work Progress, наши предполагаемые хозяева, были хрестоматийным примером людей, которым никогда не следует владеть рестораном. Там было два брата — один наполовину умный, другой на самом деле тупой — которые получили несколько баксов от мамы и папы, вместе со своим партнером, немного более осведомленным другом по колледжу, который действительно мог читать листы P и L и хрустеть. мало цифр. Их основным бизнесом было инвестирование в шоу вне Бродвея. Поскольку это, видимо, было недостаточно убыточно, они выбрали ресторанный бизнес как способ быстрее и надежнее потерять свои деньги.
С самого начала Сэмми, Дмитрий и я сумели запугать партнеров прямо из их собственного ресторана. На каждое предложение этого триумвирата новичков мы презрительно фыркали, закатывали глаза с усталой от мира насмешкой и расстреливали любое безобразие — будь то скатерти, столовые приборы или пункты меню — которые они придумывали.
Мы все время ссорились, Сэм, Дмитрий и я. Размахивая друг перед другом кулинарными книгами, мы бесконечно ссорились из-за «правильного» способа приготовления тех или иных блюд. Мы дразнили, тыкали, подталкивали, дулись, сговаривались и соревновались. Мы хотели быть лучшими, мы хотели быть разными, но в то же время правильными. Мы придумали самое сумасшедшее, самое амбициозное меню, с которым могли согласиться наши перегруженные эндорфинами мозги, что-то вроде сборника «Лучшие хиты нашей пестрой карьеры». Французская классика соседствовала с португальским тушеным кальмаром, скромным салатом из помидоров от моей тети Жанны, блюдами, которые мы вытащили из кулинарных книг, украли у других поваров и помнили, что видели по телевизору.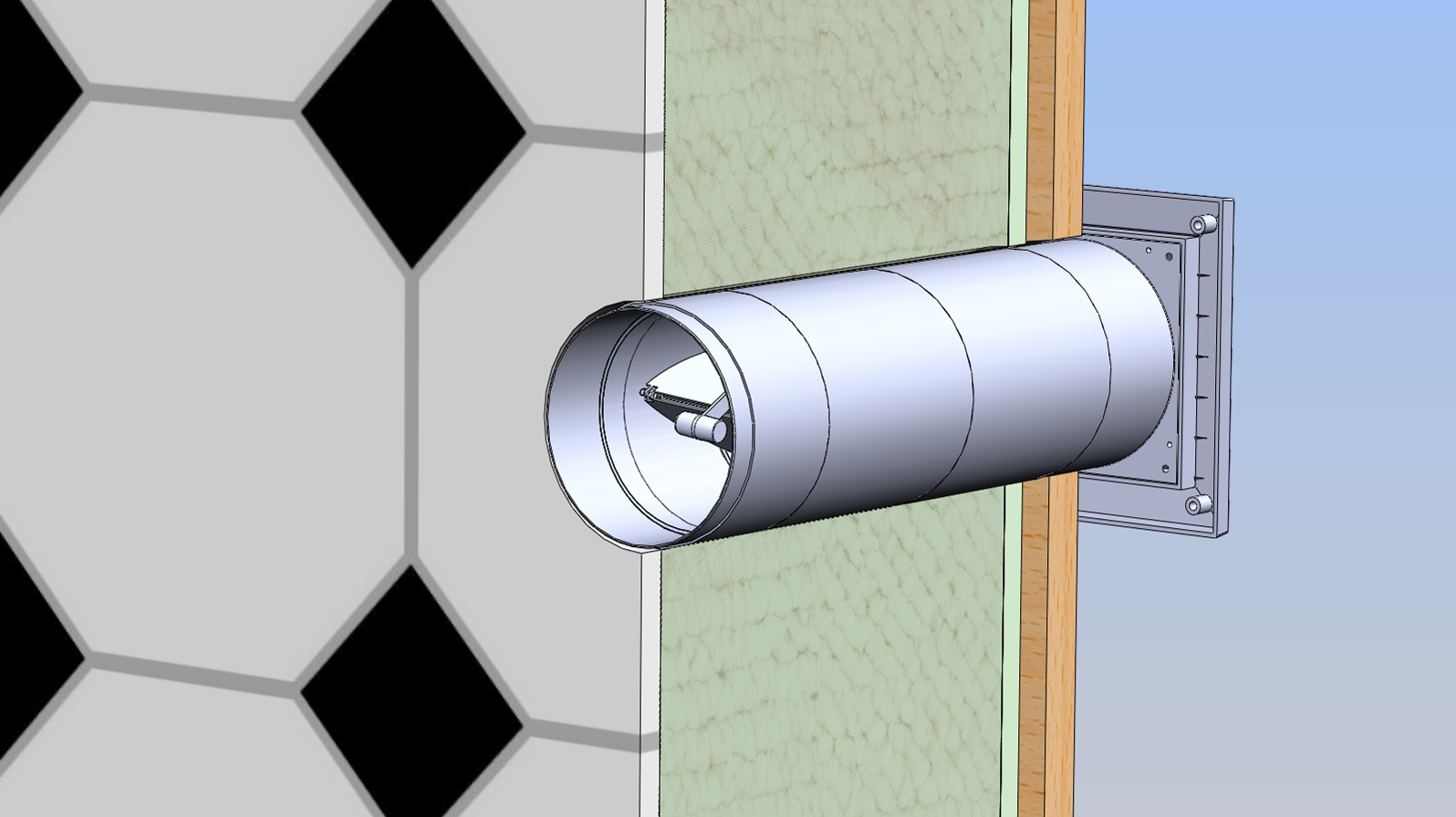 Были устрицы Wellfleet на полураковине, была паста от Mario’s — что-то вроде тальерини с трейл-миксом и анчоусами, насколько я помню, — гребешки в щавелевом соусе (может быть, из Бокюза?), телячья печень с малиновым уксусом соусом, рыба-меч с черной фасолью и белым рисом, pompano en papillotte, крем ренверсе моей мамы. . .
Были устрицы Wellfleet на полураковине, была паста от Mario’s — что-то вроде тальерини с трейл-миксом и анчоусами, насколько я помню, — гребешки в щавелевом соусе (может быть, из Бокюза?), телячья печень с малиновым уксусом соусом, рыба-меч с черной фасолью и белым рисом, pompano en papillotte, крем ренверсе моей мамы. . .
Мы все время были под кайфом, прокрадываясь к проходу при каждой возможности «осмыслить». Вряд ли решение принималось без наркотиков. Мы работали долгие часы и очень гордились своими усилиями — мы думали, что лекарства мало влияют на конечный продукт. Мы верили, что именно в этом заключалась жизнь, в которой мы жили. Мы могли споткнуться о промокательную кислоту, бессонные три дня и наполовину выпитую бутылку Stoli, но мы были профессионалами, черт возьми! Мы не позволили этому повлиять на нашу линейную работу. И мы были счастливы, по-настоящему счастливы, как немногие счастливчики Генриха V, группа братьев, оборванных, слегка развратных воинов, которые ожидали не меньше, чем полную победу — Азенкур ума и желудка.
Поначалу мы были очень заняты, и вместе с молодыми протеже, которые вызывали у нас что-то вроде благоговения, Сэм, Дмитрий и я работали весь день и до поздней ночи. Когда ресторан закрывался, мы занимали бар, пили «Кристал», который покупали по себестоимости, и носили толстые порции кокаина из одного конца бара в другой, а затем ползали на четвереньках, чтобы понюхать их. . Более симпатичные и более дегенеративные члены обслуживающего персонала тусовались с нами, поэтому в отделе галантерейных товаров и на банкетах было много возни, а 50-фунтовые мешки с мукой были популярным местом для совокупления после работы. Группа панк-рокеров-наркоманов-гитаристов бесплатно ела в Work Progress, поэтому мы получили бесплатные билеты и проходы за кулисы в Mudd Club, CBGB, Tier Three, Hurrah, Club 57 и так далее. А когда клубы закрылись, наступило нерабочее время, когда мы выпивали и принимали новые наркотики, пока, если позволяла погода, не успели на семичасовой поезд до Лонг-Бич. Мы доедали последнюю порцию в поезде, а потом теряли сознание на пляже. Кто бы из нас ни просыпался от кивка, он переворачивал остальных, чтобы избежать неравномерного ожога. Когда мы, наконец, вернулись на работу с песком в волосах, мы выглядели загорелыми, отдохнувшими и готовыми.
Кто бы из нас ни просыпался от кивка, он переворачивал остальных, чтобы избежать неравномерного ожога. Когда мы, наконец, вернулись на работу с песком в волосах, мы выглядели загорелыми, отдохнувшими и готовыми.
Мы считали себя племенем. Таким образом, у нас было несколько необычных обычаев и ритуалов. Если вы порезались на кухне Work Progress, традиция требовала максимального проливания и рассеивания крови. Один сжимал рану до тех пор, пока она не потекла свободно, а затем брызнул большими струями красных брызг на куртки и фартуки товарищей. Мы любили кровь на нашей кухне. Если ты сильно поранился, это не было позором; мы нарисуем трафарет в виде поварского ножа под вашей станцией, чтобы отметить это событие. Через некоторое время у вас будет небольшой ряд таких вещей, как у летчика-истребителя. Домашняя кошка — убийца мышей — получила собственный трафарет (в форме крошечной мыши), нанесенный на стену из миски с водой, что означает подтвержденные убийства.
Мы мало заботились о менеджерах или владельцах — или, если уж на то пошло, о клиентах.
Неудивительно, что наш ресторан быстро терпел неудачу. Я впервые увидел то, что я позже назвал синдромом неудачного ресторана, недугом, который заставляет владельцев искать быстрое решение, мастерский ход, который «перевернет ситуацию», повернет вспять и без того необратимую тенденцию к неплатежеспособность. Мы попробовали бранч в Новом Орлеане с диксилендской группой. Мы попробовали комплексное меню, воскресный вечерний шведский стол, разместили рекламу и наняли публициста. Каждый последующий мозговой штурм был более контрпродуктивным, чем предыдущий.
Когда зарплаты стали возвращаться, а продавцы начали выставлять нас наложенным платежом (оплатой при доставке), владельцы вызвали консультантов ресторана. Уже тогда мы понимали, что это значит: консультанты обычно прибывают прямо перед репо и судебными приставами. Это был похоронный звон. Мы пытались. Мы потерпели неудачу. Естественно, мы возложили ответственность на владельцев. Это было трудное место, атмосфера была плохой, музыка в столовой была отстойной, официанты не были хорошо обучены. . . Но правда была в том, что мы были недостаточно хороши. Наша еда, очаровательная для некоторых, была непривлекательна для большинства. Мы не совершали сэппуку. Сэм и Дмитрий остались, полные решимости пойти ко дну вместе с кораблем.
. . Но правда была в том, что мы были недостаточно хороши. Наша еда, очаровательная для некоторых, была непривлекательна для большинства. Мы не совершали сэппуку. Сэм и Дмитрий остались, полные решимости пойти ко дну вместе с кораблем.
Но мой двоюродный брат устроил мне мою самую первую работу шеф-повара в новом, но уже проблемном ресторане в театральном квартале, и я ухватился за это предложение. Я чувствовал себя плохо из-за того, что оставил своих друзей. И у меня зародилась очень неприятная маленькая героиновая привычка из-за всей той дури, которую я нюхала — но эй! Я собирался стать поваром!
Одна из центральных ироний моей карьеры заключается в том, что как только я перестал принимать героин, все стало совсем плохо. Под кайфом я был, по крайней мере, шеф-поваром, хорошо оплачиваемым, очень любимым и командой, и этажом, и владельцами. Стабилизировавшись на метадоне, я стал почти непригодным для работы в приличном обществе: неуклюжий, ненадежный нюхальщик кокаина, подлый вор и хитрый халтурщик, работающий в кулинарных заводях.
Я работал в захудалом отеле в Верхнем Мэдисоне, месте настолько медленном, что одному официанту приходилось спускаться вниз и будить меня, когда входили клиенты. Я работал за обеденным столом в Амстердаме, переворачивая блины и готовя яйца на заказ для политиков. и их мешочники. Я работал в причудливой комбинации художественной галереи и бистро на Колумбусе, только я и бармен, торгующий кокаином, — обычно удобный и разрушительный симбиоз. Я был су-шефом в очень хорошем двухзвездочном ресторане на 39-й улице, где смутно припоминаю, как готовил обед из четырех блюд для Поля Бокюза; кажется, он поблагодарил меня по-французски. Я работал в заброшенной крабовой ферме на Второй авеню. Я готовил поздние завтраки в Сохо, я раздавал еду за паровым столом в баре на 8-й улице кучке пьяниц.
Какое-то время я устраивался на работу еще одним поваром — своего рода — в момент необходимости в Billy’s, высококлассном курином заведении на Бликер-стрит, где можно посидеть и поесть на вынос. Это была операция, которая должна была стать флагманом другой запланированной империи, сети куриных крылышек, которая растянется по всему миру.
Это была операция, которая должна была стать флагманом другой запланированной империи, сети куриных крылышек, которая растянется по всему миру.
На этом низком этапе моей карьеры меня не волновало, будет ли это место успешным или нет. Мне нужны были деньги.
Мой босс был пожилым евреем, только что вышедшим из тюрьмы и назвавшим это место в честь своего младшего сына Билли, беспомощного бездельника. В прежней жизни он был главой счетной комнаты в казино Лас-Вегаса, и после того, как его поймали на снятии миллионов для «парней из Нью-Йорка и Цинциннати», ему предложили дружескую сделку, если он будет сотрудничать. работать с прокуратурой. Он, как это ни удивительно, отказался и в результате провел последние пять лет, питаясь тюремной едой. Когда он вышел, почти сломленный человек, его старые приятели в Нью-Йорке, будучи людьми чести, устроили ему этот ресторан в знак благодарности за оказанные услуги.
К сожалению, в тюрьме старик полностью сошел с ума. Он, может быть, и был стойким парнем, но он был абсолютно сумасшедшим.
Это не была классическая операция по освобождению, когда толпа преднамеренно превращает помещение в землю, используя подставного лица/подставного владельца для выставления счетов, а затем грабя это место в поисках товаров и кредитов. Я думаю, что умники очень хотели, чтобы бедный разгильдяй заработал деньги и добился успеха. Они прилагали искренние усилия, чтобы помочь на каждом шагу, терпя много глупостей от своего явно ненормального партнера.
Конечно, я и раньше встречал мафиози, но я никогда не работал в месте, где царила сплошная толпа, где я лично познакомился с настоящими умниками, чьи имена я узнал по бумаги. Все были удивительно откровенны в своих связях. Мой начальник любил кричать в трубку, обсуждая цены с поставщиком: «Вы знаете, кто я? Вы знаете, с кем я?!»
У Билли все по-другому.
Мои повара, например: все до единого пришли из Общества Фортуны, парни, которые проводили свободное время в приютах, которым разрешали выходить только на работу.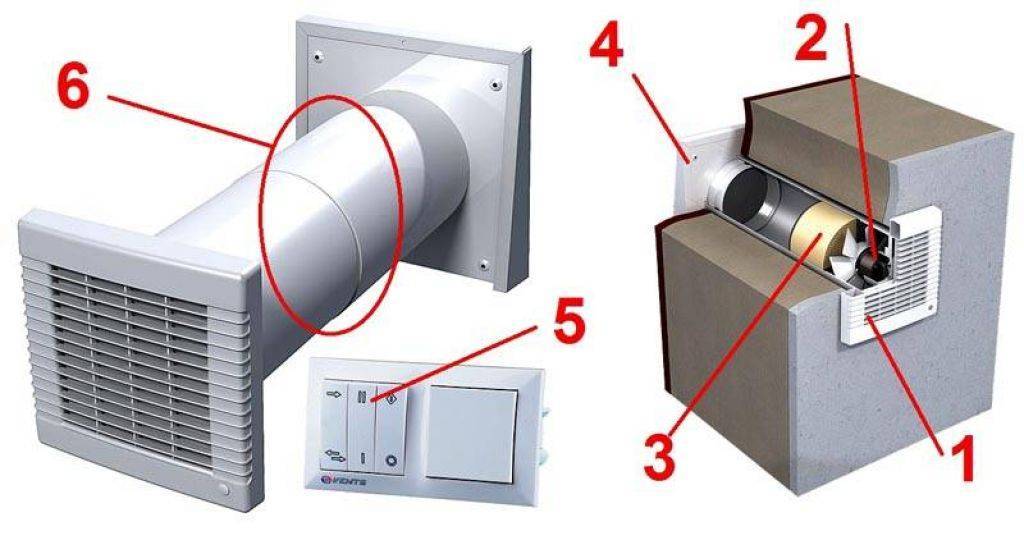 Я привык работать с довольно грубыми людьми, у многих из которых в то или иное время были проблемы с законом, но в «Билли» каждый из моих поваров по-прежнему был в основном заключенным. Я тоже не могу сказать, что это было несчастливое расположение; в кои-то веки я знал, что мои повара будут появляться на работе каждый день, а если нет, то их снова отправляют в тюрьму.
Я привык работать с довольно грубыми людьми, у многих из которых в то или иное время были проблемы с законом, но в «Билли» каждый из моих поваров по-прежнему был в основном заключенным. Я тоже не могу сказать, что это было несчастливое расположение; в кои-то веки я знал, что мои повара будут появляться на работе каждый день, а если нет, то их снова отправляют в тюрьму.
И кредит был легко получен. По предыдущему опыту я знал, как сложно установить условия для нового ресторана; даже получение недельного кредита в некоторых из этих компаний обычно было длительным процессом, включая заявки на получение кредита, длительное ожидание, начальные периоды оплаты наложенным платежом. В Billy’s, как только я заканчивал разговор по телефону, товар прибывал, часто на 60-дневных условиях.
Мой босс провел много времени на телефоне, выясняя серьезные проблемы с лошадьми и их родословными, а также выясняя, насколько хорошо они бегают по грязи или по траве. Сам Билли в 18 лет был счастлив ездить на своей спортивной машине и гоняться за девушками. Так что мои будни я проводил в основном с приветливыми джентльменами из Итальянской братской организации. Они услужливо подсказали мне, где купить мясо и птицу и как познакомиться с людьми, которые будут поставлять мне белье, хлеб, бумажные товары и так далее. У меня было много встреч в машинах.
Так что мои будни я проводил в основном с приветливыми джентльменами из Итальянской братской организации. Они услужливо подсказали мне, где купить мясо и птицу и как познакомиться с людьми, которые будут поставлять мне белье, хлеб, бумажные товары и так далее. У меня было много встреч в машинах.
«Хлебный парень здесь», — говорили мне, и перед входом подъезжал «бьюик» последней модели. Пожилой парень в помятой кепке для гольфа манил меня с водительского места и вылезал из машины. Пожилой парень на пассажирском сиденье подъезжал, показывая, что хочет, чтобы я села, села рядом с ним и поговорила. Мы сидели в машине на холостом ходу, загадочно разговаривая о хлебе, прежде чем он подвел меня к багажнику, чтобы осмотреть какой-нибудь продукт. Это было странное дело.
Мой босс становился все более и более странным. Когда мы наконец открылись, мы были забиты с первой минуты. Заказы хлынули потоком по телефону, к стойке и за столиками. Мы были неподготовлены и недоукомплектованы, так что итальянский контингент, включая различных приезжих высокопоставленных лиц, все со странными англизированными именами («Это мистер Ди, Тони, и познакомьтесь с другом, мистер Браун… Это мистер Лэнг»), все они толстые, жующие сигары, парни средних лет с телохранителями и часами за 10 000 долларов — бросились на помощь. Парни, о которых я читал позже в газетах, занимались строительством в отдаленных районах, предполагаемыми убийцами, наемными людьми, которые жили в бетонных сваях на Стейтен-Айленде и Лонг-Бич и в охраняемых поместьях на Джерси, носили коричневые бумажные пакеты с куриными бутербродами. вверх по трем лестничным пролетам до апартаментов в Гринвич-Виллидж, чтобы доставить товары; они намазывали майонез и ломтики авокадо на питту за прилавком и обслуживали столики в столовой. Я должен сказать, что они мне понравились за это.
Парни, о которых я читал позже в газетах, занимались строительством в отдаленных районах, предполагаемыми убийцами, наемными людьми, которые жили в бетонных сваях на Стейтен-Айленде и Лонг-Бич и в охраняемых поместьях на Джерси, носили коричневые бумажные пакеты с куриными бутербродами. вверх по трем лестничным пролетам до апартаментов в Гринвич-Виллидж, чтобы доставить товары; они намазывали майонез и ломтики авокадо на питту за прилавком и обслуживали столики в столовой. Я должен сказать, что они мне понравились за это.
Но когда мой босс по необъяснимым причинам появился однажды и сказал мне уволить всех с татуировкой на моем персонале, я столкнулся с дилеммой. Все мои повара были украшены тюремными татуировками: кричащие черепа, Иисус на подкожных крестах, обвитый колючей проволокой, бандитские татуировки, горящие кости, свастики, эсэсовские вспышки, Рожденные проиграть, Рожденные мертвыми, Любовь Ненависть, Мама, портреты Мадонна, жены, подруги, Оззи Осборн. Я пытался оттолкнуть его, объясняя, что без этих ребят нам не обойтись, что самый трудолюбивый, самый незаменимый парень у нас был, парень, который прямо сейчас загружал мусорные баки сотнями маринованных куриных частей в тесном, душном помещении. неохлаждаемый подвал в его 22-ю двойную смену подряд — он был проклятой Сикстинской капеллой искусства кожи. И где я найду зэка без татуировки? Грабителей Уотергейта, насколько мне известно, не было.
неохлаждаемый подвал в его 22-ю двойную смену подряд — он был проклятой Сикстинской капеллой искусства кожи. И где я найду зэка без татуировки? Грабителей Уотергейта, насколько мне известно, не было.
Все стало только хуже. Он пришел на следующий день, одержимый золотыми цепочками и украшениями. У моего грильмена были обычные для того времени украшения гетто. «Как вы думаете, откуда у этого баклажана [баклажана] столько золота?» — бредил он, разбрызгивая еду и слюну во время разговора. «Продажа наркотиков. Это дерьмо — яд! Ограбление старых дам! Я не хочу этого в моем ресторане! Вытащите его!» Это было явно невозможно, и я обратился за советом к одному из молчаливых партнеров, который по мере того, как мой босс становился все более непредсказуемым, стал заметно менее молчаливым. — Ты слышишь, что он хочет, чтобы я сделал? Я спросил. Мужчина только кивнул и сочувственно закатил глаза, как мне показалось.
«Ничего не делай», — сказал он, а затем с действительно опасной интонацией добавил: «Аспетта», что по-итальянски означает «Подожди».
Мне это не понравилось. Он улыбнулся мне, и я не мог не представить своего босса, сгорбившегося на приборной доске после одной из тех встреч в машине, которую они все так любили. Когда несколько дней спустя дело дошло до апогея, мой босс открыто кричал посреди переполненной столовой, что он хочет, чтобы все татуированные парни и носители золотых цепей: «Вон! Сейчас!» Я сказал ему заплатить мне то, что он должен — я ухожу навсегда. Он отказался. Молчаливый партнер подошел, снял мою зарплату и лишнюю сотню из толстого рулона в кармане костюма и тепло улыбнулся мне на прощание.
Я не знаю, что случилось с Билли. Он, конечно же, так и не превратился во всемирную сеть, как предполагал мой сумасшедший босс, или даже во второй магазин. В следующий раз, когда я оказался по соседству, место, где раньше был ресторан, занял багетщик. Что случилось со стариком и его мечтами о птицеводческой империи для сына? Я могу только догадываться.
После того, что он называет «годами дикой природы» и перерыва в открытии высококлассного тосканского ресторана, Бурден два года назад с радостью стал шеф-поваром в Les Halles, успешной нью-йоркской пивной.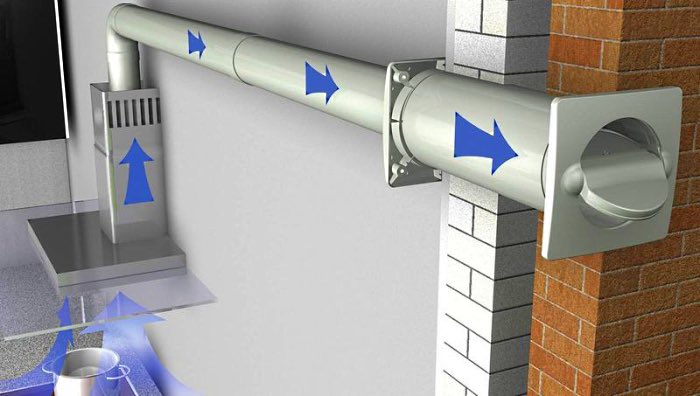 Он все еще там, найдя время написать пару романов.
Он все еще там, найдя время написать пару романов.
На днях ночью в работе было затишье, один из тех слишком коротких периодов примерно в 10 минут, когда обслуживающий персонал занят тем, что пытается перевернуть столы, и даже несмотря на то, что бар заполнен втроем ожидающими клиентами и есть очередь за дверью, на кухне тихо.
Я стоял в дверях подготовительной кухни в подвале и нервно курил сигарету. Мы были в этом жутком, ураганном затишье. Когда следующая волна голодной публики рассеется, накормится и напоится, начнется карательная гонка. Сначала ударили по салату, затем по соте и, наконец, по грилю, пока все не рухнуло сразу — вся наша компания в тесной кухне изо всех сил, потея и ругаясь, чтобы доставить заказы, не запутавшись в сорняках. У нас оставалось всего несколько минут покоя, и я курил, ерзал и вполуха слушал то, о чем говорила моя команда.
Тон остроты был знакомым, как и тема — и я понял это, Боже мой. . . Я слушаю один и тот же разговор уже 25 лет!
Кто больший гомик? Кто берет это в жопу? Кто именно в данный момент является pédé, maricón, fanocchio, puta a pato? Все дело в члене, понимаете.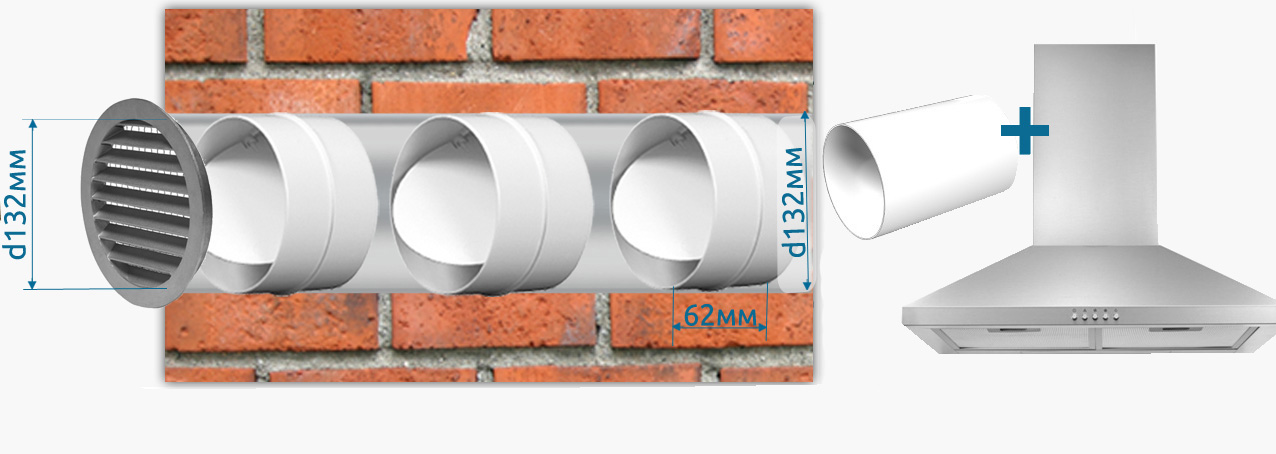
Это настоящий интернациональный язык кухни, поняла я, наблюдая, как мой французский су-шеф, американский кондитер, мексиканский гриль, салат и жаркое обмениваются шутливыми оскорблениями с бенгальским бегуном и доминиканской посудомойкой.
Кулинарная беседа как форма искусства, подобно хайку или кабуки, определяется установленными правилами, с жесткими традиционными рамками, в которых можно действовать. Все комментарии должны, по исторической необходимости, касаться непроизвольного ректального проникновения, размера полового члена, физических недостатков или раздражающих манер или дефектов.
Правила могут сбивать с толку. Pinche wey означает «гребаный парень», но также может означать «милый шалун» или «приятель». Но если вы используете слово «приятель» или, что еще хуже, «мой друг» на моей кухне, это вызовет у людей паранойю. Известно, что «мой друг» означает «засранец» в худшем и самом искреннем смысле этого слова. И начните быть слишком любезным с поваром на линии, и он может подумать, что завтра его уволят. Мои vato locos, как и большинство линейных поваров, практикуют многовековую устную традицию, в рамках которой мы — все мы — пытаемся найти новые и забавные способы говорить о члене.
Мои vato locos, как и большинство линейных поваров, практикуют многовековую устную традицию, в рамках которой мы — все мы — пытаемся найти новые и забавные способы говорить о члене.
Гомофоб, говоришь? Субментальное? Безразличие к гендерным предпочтениям и великолепная мозаика этнически разнообразной рабочей силы? Гы. . . Возможно, ты прав. Например, такая обстановка в раздевалке усложняет жизнь женщинам? Ага. Большинство женщин, к сожалению. Но чего система ищет, чего она требует, так это кого-то, кого угодно, кто может устоять на своем месте, играть в игру, не выходя из формы и не принимая все на свой счет.
Но, скажем, вы «примите это в близнецах», это не помеха для выживания. Мы слишком заняты и слишком близки, и мы проводим слишком много времени вместе как большая, неблагополучная семья, чтобы заботиться о поле, гендерных предпочтениях, расе или национальном происхождении. После уровня навыков ваше место в пищевой цепочке определяется тем, насколько вы чувствительны к критике и воспринимаемому оскорблению, а также насколько хорошо вы можете ответить на него в ответ. Я был flaco и cadavro, вероятно, borracho. Так оно и есть. Я звоню в свою кухню по интеркому, требуя масла или еще соуса, и этот маленький гангстер, который держит мои запасы на обороте и готовит для меня эту прекрасную петрушку с шифоном, собирается ответить (после того, как я перестану слышать): Черт возьми!!», прежде чем дать мне именно то, что я просил. Лучше бы я сказал это первым: «Дай мне мою гребаную мантекилью и соус, ублюдок. Хорита… и… черт с тобой!» И я тоже люблю этого маленького головореза — со спортивной повязкой на голове, в мешковатых штанах, с застегнутыми пуговицами сверху и расстегнутыми нижними пуговицами, в лунных ботинках, наполовину пуэрториканцем, наполовину чоло вато локо, с его грубыми татуировками в тюремном стиле и его нож-бабочка, спрятанный в браслете. Я много раз подумывал о том, чтобы усыновить его. Он все, что я хотел бы в сыне.
Я был flaco и cadavro, вероятно, borracho. Так оно и есть. Я звоню в свою кухню по интеркому, требуя масла или еще соуса, и этот маленький гангстер, который держит мои запасы на обороте и готовит для меня эту прекрасную петрушку с шифоном, собирается ответить (после того, как я перестану слышать): Черт возьми!!», прежде чем дать мне именно то, что я просил. Лучше бы я сказал это первым: «Дай мне мою гребаную мантекилью и соус, ублюдок. Хорита… и… черт с тобой!» И я тоже люблю этого маленького головореза — со спортивной повязкой на голове, в мешковатых штанах, с застегнутыми пуговицами сверху и расстегнутыми нижними пуговицами, в лунных ботинках, наполовину пуэрториканцем, наполовину чоло вато локо, с его грубыми татуировками в тюремном стиле и его нож-бабочка, спрятанный в браслете. Я много раз подумывал о том, чтобы усыновить его. Он все, что я хотел бы в сыне.
Прошло 27 лет с тех пор, как я зашел на кухню Дредноута в Провинстауне с волосами, спущенными до середины спины, с плохим отношением и незначительным желанием немного поработать за деньги.
Сколько еще я буду этим заниматься?
Не знаю. Я люблю это, вы видите.
Я люблю разогревать утиное конфи, соусиссон де утка, конфи желудки, соусиссон де Тулуз, пуатрин и утиный жир с этими замечательными бобами тарбе, ложкой выкладывать их в глиняный кувшин и посыпать панировочными сухарями. Я люблю делать эти маленькие горы картофельного пюре с зеленым луком, диких грибов, рис-де-во, хороший, высокий салат из микрозелени в качестве гарнира, сбрызгивая идеально разведенный соус вокруг тарелки моей любимой ложкой. Я наслаждаюсь выражением лица моего босса, когда я готовлю специальное пот-о-фе — выражение чистого восторга, когда он берет массивную миску с тушеными копытами, плечами и хвостами, глядя на простые вареные репу, картофель и морковь. правильно, так и должно быть. Мне нравится этот взгляд, такой же, как у меня, когда я подхожу к тарелке идеальных устриц. Это взгляд удивления: то же самое выражение, которое вы видите на лицах маленьких детей, когда их отцы берут их в глубокую воду на пляже, и это всегда красиво.